Женский смех как табу
В Москве презентовали книгу Сабин Мельхиор-Бонне «Женский смех» и рассказали, почему «мы смеемся, когда нам страшно», как смех оказался табу и может ли современная женщина смеяться свободно

В конце прошлого года в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Сабин Мельхиор-Бонне «Женский смех. История власти», а на прошлой неделе ее представили в пространстве Des Esseintes Library. Разговор о смехе быстро вышел за рамки частной темы: участники рассказали, как библейская традиция фактически ввела запрет на женский смех, а эпоха модерна заменила религиозные ограничения научными и политическими механизмами контроля, а также как в XX веке смех стал частью массовой культуры и даже индустрией, но вместе с «разрешением» он превратился в товар и инструмент экономики эмоций. Подробности — в репортаже литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.
Еще со времен Ноя
Сабин Мельхиор-Бонне — французский историк и исследовательница, которая специализируется на истории эмоций и культурных практик повседневности. Она — автор нескольких книг, в том числе «История зеркала» и «Оборотная сторона любви. История расставаний», в которых анализирует, как в разных исторических эпохах социальные нормы, культурные практики и эмоции взаимодействовали с представлениями о теле, гендере и власти. В своей последней книге — «Женский смех. История власти» — Мельхиор-Бонне расшифровывает исторические корни табу, связанных с женским смехом, и показывает, как женщин постепенно наделяли правом смеяться и шутить, связывая эту динамику с историей эмансипации и культурных трансформаций в Европе.
PhD в области семиотики и культурных исследований (Тартуский университет) и профессор Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Людмила Запорожцева отметила, что для Мельхиор-Бонне смех — это прежде всего знак: «У смеха есть разные ипостаси, это нейрофизиологический феномен. Но в ее контексте смех предстает в первую очередь как знак. И уже как знак он может обладать гендером и другими ипостасями». По словам Запорожцевой, интерес, который представляет книга Мельхиор-бонне, заключался в том, что автор анализирует смех в разных исторических и культурных контекстах. «Знаки живут в контекстах, без контекста знак ничего не значит. И здесь смех обретает разные измерения — в разные эпохи и внутри одной эпохи», — сказала Запорожцева. Она предположила, что и в других работах исследовательница прибегала к той же методологии.
Представитель издательства «Новое литературное обозрение» и модератор встречи Михаил Постников подчеркнул, что смех находился «на точке разрыва между естественным и попадающим в культурные рамки». По его словам, именно из этого разрыва возникли гендерные и классовые аспекты: смех оказался включен в систему культурных ограничений. Эти ограничения затрагивали маргинализированные группы, в том числе женщин, «которым, как утверждает автор, на протяжении истории мешали смеяться».

Отвечая на вопрос о начале запрета, кандидат филологических наук, доцент факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, PhD Наталья Долгорукова указала на библейский сюжет: «Можно сказать, что уже в Библии женщине запретили смеяться, о чем пишет автор в первой главе — об истории Сары. Это смех от того, что она забеременела в девяносто с лишним лет. И этот смех Бог не одобрил». Долгорукова добавила, что библейская парадигма скорее запрещала женщине смеяться громко, напоминая, что образ Девы Марии в новозаветной традиции — это «легкая улыбка, без видимых зубов», предельно умеренное выражение эмоции. При этом Наталья уточнила, что наряду с нормативной культурой существовал фольклор, где женщине позволялось то, что не разрешалось в канонических текстах.
Кандидат философских наук, сотрудник Институт философии РАН и нарративный практик Марыся Пророкова связала возникновение запретительных практик с разделением человеческой природы на духовное и телесно-витальное. «Если смех относится к телесному, витальному, к некоторому избытку энергии, то он становится запретным в культурном смысле», — сказала она. По ее словам, этот запрет присваивался культурой и использовался в локальных контекстах, например, в мистериальных или календарных обрядах, где смех временно нарушал норму, чтобы затем порядок был восстановлен.
Запорожцева отдельно подчеркнула, что речь не шла об универсальном запрете: «Конечно, в абсолюте никто никому ничего не запрещал. Смех, как физиологическая реакция, всегда существовал. Мы говорим о нормативах, которые складывались в разных культурах. И в этих обстоятельствах смех мог быть нормирован — и у мужчин, и у женщин». Таким образом, не было юридического запрета на смех. Скорее, это исторически меняющиеся культурные рамки, в которых женский смех приобрел статус контролируемого и ограничиваемого проявления.
«Мы смеемся, когда нам страшно»
Говоря об архаичных структурах, Людмила Запорожцева отметила, что смех, как, впрочем, и плач, рассматривали как часть экстатических практик: «Во многих древних культах и смех, и плач обладали очень сильным символическим значением». По ее словам, как знак-символ смех был связан с религиозными культами и инверсивными или инициационными обрядами. При этом плач оказался более приемлемым, тогда как смех «был табуирован как со знаком минус».
Запорожцева подчеркнула, что в архаических обществах экстаз понимали как выход из себя и трансформацию, а это уже воспринималось как опасное состояние: «Все экстатические практики, в том числе архаичные, связанные с сакральными культами, — это трансформационные практики. Экстаз — это выход из себя, когда человек превращается, а это страшно». Смех, по ее формулировке, маркировал страх: «Мы смеемся, когда нам страшно. А там, где страшно, там опасно». В результате в древнейших культах смеяться могли божества, оракулы или посвященные жрецы, тогда как в других случаях смех снова оказался табуирован.
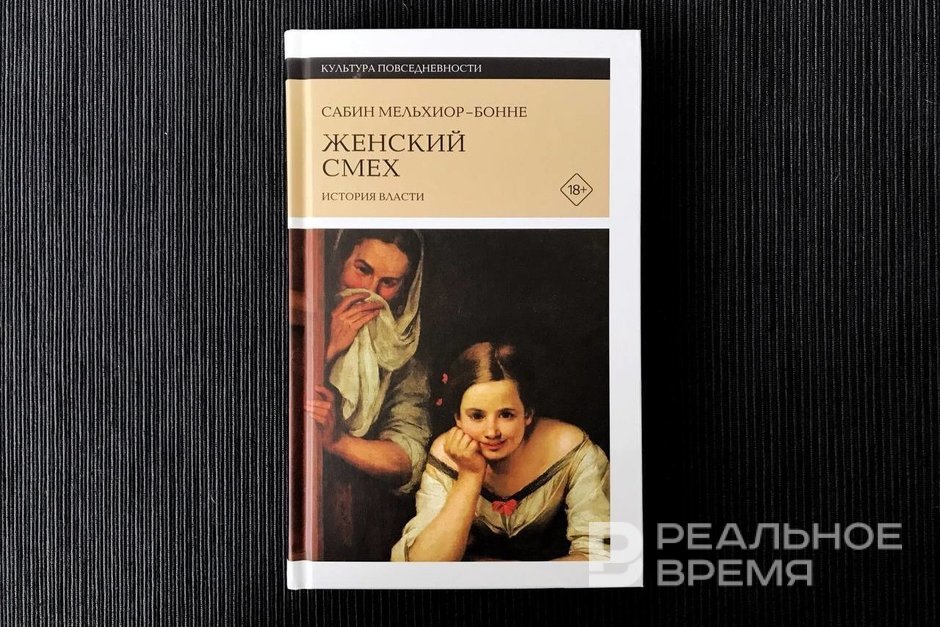
В христианской культуре, отметила Наталья Долгорукова, ранние авторы осуждали смех в целом. «Климент Александрийский осуждал и мужской, и женский смех. Потому что смех уродует, искажает божественные черты лица и отдаляет нас от Бога», — сказала Долгорукова. При этом в средневековой схоластике существовал спор о том, смеялся ли Христос. Наталья напомнила, что одни богословы считали: раз в Писании об этом не сказано, значит, Христос не смеялся; другие утверждали обратное. Кстати, этот спор отражен в сюжете романа Умберто Эко «Имя розы».
Долгорукова также обратила внимание на двойственность отношения к смеху. С одной стороны, человек способен смеяться и тем самым возвышается над животным началом. С другой — именно это «животное начало» высвобождалось в карнавальных практиках, где смех и телесность получали временное разрешение.
По словам Людмилы Запорожцевой, в современной исламской традиции женщина в публичном пространстве «покрывается знаком отрицания»: «Мы должны сделать женщину невидимой». Смех она определила как «яркий признак, симптом наличия личности», который в условиях закрытого лица становится нерепрезентируемым. «Закрывая лицо, в традиционных культурах закрывают любую демонстрацию эмоций. Смех — это яркая эмоция, но когда закрыт рот, даже если мы улыбаемся глазами, мы не сможем распознать эту улыбку», — отметила Запорожцева, связывая это прежде всего с нормами благочестия.
Она предложила и нейрофизиологическое объяснение осторожного отношения к смеху в авраамических религиях: «Смех связан с возбуждением. Возбуждение относится к неконтролируемому, а значит, опасному. Поэтому оно должно, если не быть запрещено, то как минимум не всплывать как нечто легитимное». По этой логике смех противопоставлен стремлению к предсказуемости и структурности религиозной жизни.

Михаил Постников дополнил, что в исламской традиции существует запрет на сильные эмоции, поскольку чрезмерное переживание может рассматриваться как уязвимость перед вмешательством злого духа. В этом контексте смех понимали как форму трансгрессии, которая требует регулирования.
«То, что ей запрещается, от нее же и ожидается»
В эпоху модерна произошла смена инструментов контроля, при этом секуляризация не привела к освобождению женского смеха. Марыся Пророкова отметила, что в модерне к религиозным механизмам добавился научный дискурс: «На смену религии или в дополнение к религии приходит еще один биополитический инструмент — это наука». По словам Пророковой, знание формировалось в рамках традиционно-патриархального строя и продолжало ту же линию в отношении женского смеха, «используя вместо религиозных директив свои открытия, свой язык и свое знание, которое претендует на объективность». В этом контексте возник образ женщины-истерички. Смех в тот период трактовали как проявление «некоторой нервозной слабости, невоздержанности», а саму женщину описывали как существо, удаленное от мира разума и рациональности.
Пророкова подчеркнула наличие двойного послания: «С одной стороны, женщине приписываются свойства, которые отдаляют ее от мира интеллекта. С другой стороны, от нее ожидают именно такого поведения. То, что ей запрещается, от нее же и ожидается». При этом смех отделяли от «высокой иронии мужского мира», характерной для писателей и интеллектуалов эпохи.
В разговоре о политике в эпоху модерна Пророкова привела пример Французской революции: «Смех становится таким же инструментом политики, как и все остальные. Смеяться следует над правильными шутками. Над представлениями, высмеивающими аристократию, смеяться можно, но просто так — нельзя». По ее словам, политика присвоила аффект, но из него удалили спонтанность.
Людмила Запорожцева связала положение смеха с общей культурной иерархией эпохи Просвещения. «Проект Просвещения — это разум. Разум серьезен, солиден. Там не до смеха, просто нет пространства этому», — сказала она. Все, что не относилось к сфере серьезного и масштабируемого, выносилось на периферию: в салоны и частные пространства, недоступные публичному взгляду. Смех в этой системе оказался оппозицией солидному и потому был «всегда на периферии культуры».

Запорожцева добавила, что в XIX—XX веках череда исторических потрясений также не оставила места для этой практики: «Во все эпохи открытий, переворотов и инноваций человечество шло к большим целям, а смеху там не было места».
Отдельно Запорожцева обратила внимание на представление о женщине как символе красоты и благородства: «Женщина — это украшение, символ красоты, вершина творения. А эта вершина не может быть поругана непредсказуемостью смеха». В таком представлении смех воспринимали как искажающую гримасу, «богине это не к месту», поэтому обстоятельства, в которых он мог появиться, оставались маргинальными.
Михаил Постников отметил противоречие модерной эпохи: женщине разрешали смеяться тогда, когда она достигла вершины власти. В качестве примера он упомянул Екатерину II, которая позволяла себе иронические жесты и литературные опыты. Однако даже в эпоху романтизма, который противопоставлял себя Просвещению, женщины оставались в стороне от культурного производства и от практики романтической иронии.
«Аффективный поворот»
Наталья Долгорукова сказала, что важный перелом произошел внутри самой историографии: «Смех проник в историографию очень рано, и это связано с историей повседневности. Книга под названием «Смех», да еще и «Женский», — это завоевание историков повседневности, которые с 1920-х годов стали писать на темы, о которых историки XIX и начала XX веков не думали». По ее словам, именно маргинальные прежде сюжеты — история тела, эмоций, женщин — стали центральными в гуманитарном знании XX века.
Марыся Пророкова связала «разрешение» смеха с формированием массовой культуры и капитализацией эмоций: «Позитивные эмоции, к которым относится и смех, становятся товаром, комодифицируются». Женщина, которой в рамках гендерной социализации приписывали функцию создания благоприятной эмоциональной среды, стала проводником этой экономики. Пророкова напомнила о работе американского социолога Арли Хохшильд «Управляемое сердце». В этой книге исследовательница описывает стюардесс, которые обязаны улыбаться, тем самым создавая атмосферу комфорта: смех и улыбка превратились в инструмент капитала.
Людмила Запорожцева дополнила, что экономическая трансформация XX века изменила положение женщины в целом: «Женщины стали большой частью популяции, участвующей в экономических отношениях. Они начинают зарабатывать, тратить деньги, и им нужно продавать то, что им знакомо. Смех становится разменной монетой в экономических отношениях». По ее словам, десакрализация смеха происходила постепенно и была связана с новым экономическим пространством, где женщина стала актором и как производитель, и как потребитель.
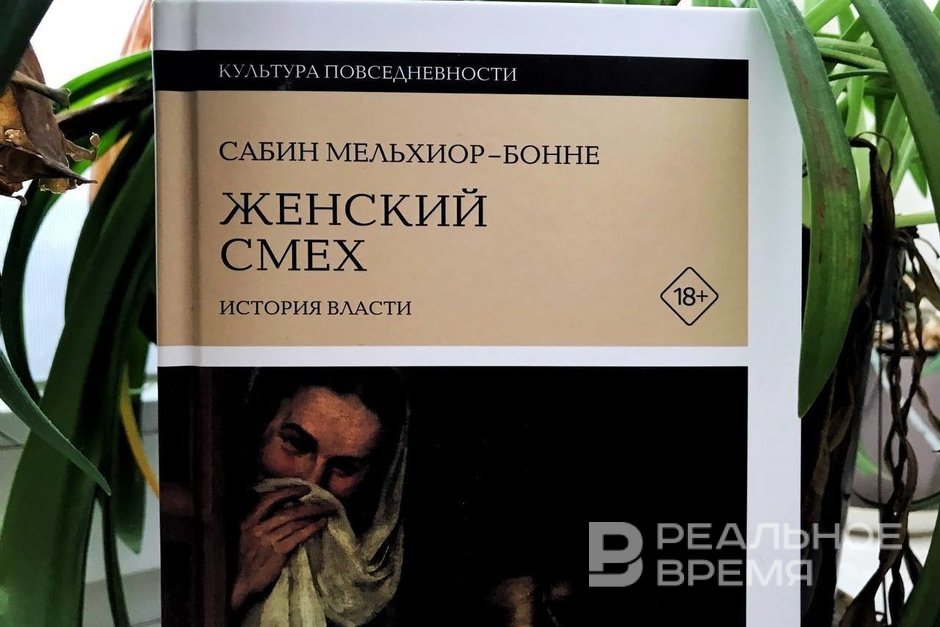
Михаил Постников обратил внимание на индустриализацию смеха, в том числе в формате женского стендапа. По его словам, женщине позволили «и смешить, и смеяться», но на определенных условиях: первые женщины-стендап-комики нередко строили образ простушки или провинциалки, даже если за их плечами было профессиональное театральное образование. Смех стал частью индустрии, куда женщин поначалу неохотно допускали, но впоследствии он оказался коммерчески востребован.
Но могут ли современные женщины смеяться свободно? Марыся Пророкова сказала о так называемом «аффективном повороте» в гуманитарном знании: «Эмансипируются не только женский смех и не только смех вообще, но и эмоции как таковые. Разум постепенно перестает занимать главенствующее место, а эмоциональное становится менее стигматизированным». Она отметила, что картезианское разделение на мыслящее и протяженное подвергли пересмотру, а различные модусы человеческого существования получили легитимность.
Людмила Запорожцева предложила сместить ракурс вопроса: «В современную эпоху, когда развита культура развлечений, смеяться женщине позволительно. Но позволено ли ей быть серьезной и делать серьезные открытия, политические свершения?» По ее мнению, в условиях, где смех отождествлен с индустрией развлечений, сама возможность смеха перестает быть проблемой, тогда как пространство серьезности может оказаться ограниченным.
Наталья Долгорукова подчеркнула историчность самого феномена: «Смех тоже историчен. Тот смех, который мы видим в архаике или в Средневековье, был возрождающим, как писал Бахтин. Но с эпохой Возрождения этот амбивалентный, оживляющий смех как будто закончился». По ее словам, на его место пришли юмор и ирония, а современный смех чаще выполняет функцию защитного механизма.

В обсуждении не прозвучало однозначного ответа о полной свободе. Смех оказался исторически изменчивой практикой: от сакрального и табуированного — к научно регулируемому, затем к политически и экономически присвоенному, а в XXI веке — к элементу индустрии развлечений и предмету академического анализа. Книга Мельхиор-Бонне «Женский смех. История власти» зафиксировала эту траекторию, показывая, что вопрос о праве женщины смеяться каждый раз решался в конкретных культурных и социальных условиях.
Возрастное ограничение 18+
Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».