«Ислам, принесенный на территорию Центральной России, с самого начала носил суфийский характер»
Суфизм в Волго-Уральском регионе. Часть 1-я. Отрывок из книги «История ислама в России»
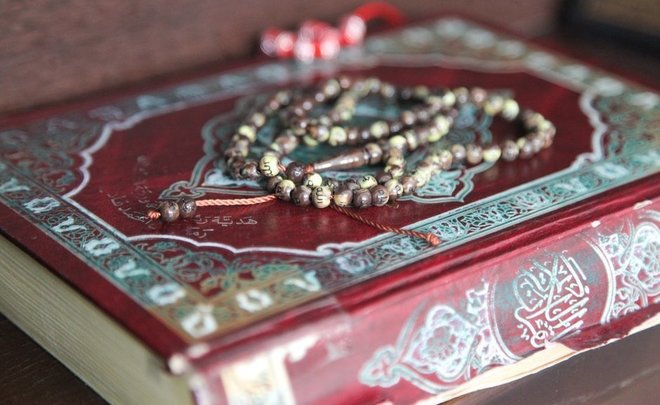
В январе Российский исламский университет представил книгу «История ислама в России», изданную к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии. Тираж в 1 тысячу экземпляров будет роздан учебным заведениям и библиотеками, а «Реальное время», с разрешения РИУ, публикует одну из глав, посвященную суфизму.
Можно предположить, что в бассейн Волги суфизм проникает вместе с распространением «официального» ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарии в 922 г.1 Проблема с определением датировки проникновения суфизма в Волго-Уральский регион, помимо всего прочего, связана со сложностью определения появления суфизма как такового. Нет единства мнений среди специалистов и в вопросе этимологии слова «суфизм»2. Если понимать под термином «суфизм» мистико-аскетическое течение, где мистицизм будет сводиться в первую очередь к идее нерационального, интуитивного, чувственного познания Всевышнего, то с рядом некоторых замечаний можно говорить о том, что ислам, принесенный на территорию Центральной России, с самого начала носил суфийский характер. Косвенным указанием на такое положение дел может являться история о трех сахабах-сподвижниках Пророка, один из которых излечил больную дочь правителя и взял ее в жены, положив таким образом начало новой династии3. Видимо, именно эта история легла в основу традиции опираться на посох во время чтения пятничной проповеди, а не на меч, как в Средней Азии4. Все это опосредованно может указывать на суфийский толк ислама, отличающийся своей ученостью и миролюбием.
Так или иначе Волжская Булгария также вошла в «дар ал-ислам» (территорию, где действует мусульманский религиозный закон и где политически господствуют мусульмане, — прим. ред.), и все события, происходившие в мусульманском мире, отражались и на ситуации в Волго-Уральском регионе. Отдельно нужно отметить, что булгарская традиция не упоминает багдадских халифов в контексте принятия ислама. Сами булгары подчеркивают, что ислам пришел в Поволжье из Средней Азии и Бухары5. Видимо, это и послужило причиной распространения в Волжской Булгарии тариката (метода духовного возвышения и мистического познания Истины, — прим. ред.) йасавийа, который в средние века имел широкую популярность в Средней Азии.
Тарикат назван именем шейха Ахмада ал-Йасави (ум. 1166 г.), выходца из города Ясы (ныне г. Туркестан на юге Казахстана), который считается одним из самых первых суфиев среди тюрок и основоположником йасавийской сильсили (духовной генеалогии глав суфийских тарикатов, — прим. ред.). Согласно суфийской традиции, ал-Йасави был учеником знаменитого Абу Йакуба Йусуфа ал-Хамадани (ум. 1140 г.), от которого он получил благословение на создание собственной «школы». Считается, что, подготовив учеников, 990 самых верных из них ал-Йасави разослал для распространения веры среди тюркских народов6.
Легенды, сложенные об Ахмаде ал-Йасави, породили множество мифов и о самой школе йасавийа, к числу которых можно отнести и мнение о популярности этого тариката среди сугубо тюркского населения, и понятие о тарикате как о представителе «неортодоксального» ислама, который именно этим своим качеством и привлек кочевых тюрков.

Однако то, что йасавийа оказал огромное влияние на культуру Волго-Уральского региона, не вызывает сомнений. До наших дней не сохранилось никаких трудов Ахмада ал-Йасави, кроме присваиваемого ему произведения «Диван-и хикмет». Именно этот труд и сборник его последователя Сулеймана Бакыргани (ум. 1186 г.) «Бакырган китабы» оказали значительное влияние на тюркскую поэзию, а вместе с ней — на богословскую мысль в Волго-Уральском регионе.
Сведений о деятельности тариката йасавийа на территории Волго-Уральского региона практически не имеется, и общую картину мы можем составить лишь на основе художественных произведений того времени. Наиболее ярким примером является труд поэта Кул Гали «Кысса-и Йусуф», датируемый 1233 г. Автор затрагивает тему идеального правителя, которым можно стать лишь благодаря развитию в себе суфийских добродетелей, таких как «сабр» (терпение), «таква» (богобоязненность), «сидк» (правдивость), а верность долгу и подчинение своих чувств разуму должны являться определяющими чертами характера. Основная идея, проводимая автором, сводится к проповеди коранического «красивого терпения» (сабр джамил) и упования на Бога (таваккул), который в целях укрепления человеческого духа посылает испытания, но никогда не оставляет преданных Ему служителей и в итоге щедро вознаграждает их. Произведение Кул Гали «Кысса-и Йусуф» сравнивают с творчеством ал-Йасави: идеи, отраженные в произведениях обоих авторов, пропагандируют ислам не просто как доктрину, а как «религию сердца»7.
Помимо Кул Гали к суфийской традиции исследователи причисляют и ряд других видных мусульманских деятелей. Так, ссылаясь на ал-Гарнати, булгарского историка Йакуба ибн Нугмана считают учеником известного нишапурского факиха Абу аль-Маали аль-Джувейни, который являлся суфием. Вместе с тем, Ш. Марджани упоминает о Дауде ас-Саксини, ученике кадия Булгара, а этот «кади придерживался тариката Ахмада Ясави»8.
Также тарикату йасавийа приписывается и исламизация нового государственного образования в Волго-Уральском регионе — Золотой Орды. Есть версия о том, что правитель Золотой Орды хан Узбек (ум. 1342 г.), находясь под влиянием именно йасавийских шейхов, объявляет ислам государственной религией, хотя известно, что мюрид шейха тариката кубравийа Сайф ад-Дин ал-Бахарзи хан Берке (то есть его последователь, — прим. ред.) также предпринимал попытки сделать ислам в качестве государственной религии, однако они не увенчались успехом9.
Нужно отметить, что суфизм в период существования Золотой Орды не только сумел сохранить позиции, но и увеличил свое влияние. Множество источников описывают обращение в ислам хана Берке, первого из Чингизидов, принявших ислам. Хан принял ислам еще до своего вступления на престол благодаря одному из учеников Сайф ад-Дина аль-Бахарзи. Вскоре после этого он решил посетить Бухару, где проживал шейх. Согласно источникам, Берке ждал аудиенции у дверей шейха три дня, до тех пор, пока ученики шейха не попросили Сайф ад-Дина принять иностранного гостя10. Общение с шейхом способствовало обновлению взглядов Берке на ислам, и по возвращении в Орду он «воздвиг маяк религии, установил обряды ислама и мусульман, оказал почет и уважение правоведам и ученым, приблизил их, поддерживал с ними связь, построил в пределах своего государства религиозные школы и мечети»11.
Вместе с тем нельзя переоценивать масштабы распространения суфизма среди населения Золотой Орды, процесс исламизации которого был уже необратим, а вместе с ним укреплялись и позиции суфизма. Поворотным событием стал приход к власти хана Узбека. В анонимном сочинении XV в. «Шаджарат ал-атрак» (Родословие тюрков) сообщается, что хан Узбек принимает ислам под руководством шейха Сейид-Ата, преемника Зенги-Ата, которые относились к йасавийской традиции12. И у Узбека, и у последующих ханов в официальной номенклатуре появляются суфийские наименования. Например, в ярлыках Токтамыша (ум. 1406) и Тимур-Кутлуга (ум. 1400) среди должностных лиц упоминаются «шейх-машаихи» (шейхи шейхов) и «шейхи-суфии»13.

Примерно с XV в. йасавийа начинает уступать свои позиции другому тарикату — накшбандийа, который появляется в конце XIV в. близ города Бухары, эпонимом которого стал Баха ад-Дин Накшбанд (ум. 1389), в юности вступивший в тарикат хваджаган, где, как считают, проходил обучение под руководством хваджи (ходжи, почтенного человека, — прим. ред.) Амира Кулала (ум. 1370). По окончании своего обучения Баха ад-Дин «канонизирует» заветы духовного предшественника Абд ал-Халика ал-Гиджувани (ум. около 1179 г.), добавив к его восьми принципам духовного поведения еще три. Скорее всего, именно с него начинается практика тихого зикра (многократного произнесения молитвенной формулы, содержащей прославление Бога, — прим. ред.) в накшбандийа, что впоследствии выделялось исследователями как одна из возможных причин распространения накшбандийа среди тюрков позднего Средневековья.
Утрата тарикатом йасавийа своей популярности происходит не только в Волго-Уральском регионе — накшбандийа получает признание во всем мусульманском мире, особенно в Центральной Азии. Возможно, причиной этому служит тот факт, что эпоним накшбандийа проходил свой духовный путь у наставников как из тариката хваджаган, так и из тариката йасавийа. Так, после завершения обучения у Амира Кулала Баха ад-Дин продолжил образование у йасавийского шейха Мавляны Арифа Дингарни, который посвятил его в таинства «тихого» зикра14. Несколько месяцев он провел с йасавийским наставником Кусамом Шайхом из иранского г. Нахшаб, после чего двенадцать лет обучался у другого йасавийского шейха Халила Аты15, личность которого отождествляют с Кадан/Газан Ханом — правителем Чагатайского ханства. На основании этого ряд исследователей выдвигают предположение об особом стремлении шейхов накшбандийа к установлению тесных связей со светской властью16.
Возможно, наличие шейхов йасавийа в числе наставников Баха ад-Дина и привело к популярности последнего среди приверженцев «машаих-и турк», которые со временем восприняли новую, уже накшбандийскую сильсилю.
ИСТОЧНИКИ
1 Марджани Ш. Мустафад ал-ахбар… Б. 123.
2 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / пер. с англ. М.Г. Романов. СПб., 2004. С. 10—11.
3 Галяутдинов И.Г. «Тарих нама-и Булгар» Таджетдина Ялчыгулова... С. 162—163.
4 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. Казань, 1991. С. 198.
5 Измайлов И. Ислам и мусульманская культура в Волжской-Булгарии // История татар с древнейших времен. В 7 т. Т. 2. Казань, 2009. С. 551.
6 История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе / науч. ред. Л.И. Алмазова, Г. Г. Идиятуллина, А.Г. Хайрутдинов. Казань, 2010. С. 70.
7 Амирханов Р. М. Татарская социально-философская мысль средневековья… С. 35.
8 Измайлов И. Ислам и мусульманская культура в Волжской-Булгарии... С. 556.
9 Суфийские братства на территории исторического Башкортостана // Ватандаш. 2008. №7. С. 166.
10 Рамзи М. Талфик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаиги Казан ва Булгар ва мулюк ат-татар. Т. 2. Оренбург, 1908. С. 299.
11 Там же. С. 299.
12 Измайлов И., Усманов М. Ислам в Улусе Джучи // История татар с древнейших времен. В 7 т. Т. 3. Казань, 2009. С. 607.
13 Измайлов И., Усманов М. Ислам в Улусе Джучи… С. 610.
14 В то время как хваджа Амир Кулал был приверженцем «громкого» зикра.
15 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм… С. 250.
16 Там же. С. 251.
Справка
Евгений Хамидов — старший преподаватель кафедры религиоведения отделения философии и религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».